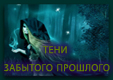29.06.2025, 09:24
Один из типичных признаков нечистой силы – неразборчивость речи (гугнивость) и нечто аналогичное заиканию; вообще речевое поведение «нечистиков» относится, так сказать, к сфере дефектологии. Необходимо иметь в виду при этом, что и народная русская речь, поскольку она предстает в языковом сознании как отклонение от языковой нормы, может восприниматься носителями стандартизованного языка именно как патологическое явление: не случайно возникновение диалектов воспринималось в свое время как порча языка, которая произошла от картавых, шепелявых, гугнивых людей, заик и т. п. [Успенский 1985/2008: 21–22, примеч. 4].
Так, согласно одному этнографическому свидетельству, черти говорят «часто-часто и плохо-непонятно густым голосом и много раз одно и то же слово повторяют» [Брюсов 1976: 89]. Когда леший поет песни, невозможно разобрать слов [Померанцева 1975: 36; cр.: Максимов XVIII: 81; Мошинский ІІ/1: 640; Виноградова 1999: 194]. По другим сведениям, «лешие не говорят, а только смеются» [Сахаров VII: 61]. Вместе с тем представителям нечистой силы присущи звуки «гортанные, надсаженные, с металлическим отзвуком»; «когда нечистики оживленно разговаривают, спорят, слушатель улавливает смешение гортанных и пискливых звуков с шипеньем и урчаньем» [Никифоровский 1907: 31; см. еще
в этой связи: Санникова 1994: 74–75]. Считается также, что «нечистик избегает слов с буквою р» [Никифоровский 1907: 31].
Характерно в этом смысле, что письмо лешему (к которому обращаются с требованием возвратить заблудившуюся в лесу скотину) пишется каракулями, а не обычными буквами; это отвечает тому, что леший, как и другие представители нечистой силы, говорят неразборчиво, невнятно; каракули – это своего рода графическая глоссолалия.
Представление о глоссолалической речи чертей нашло отражение и в литературных источниках. Вот, например, как изъясняются бесы в «Воительнице» Лескова: «Шурле-мурле, шире-мире-кравермир, – орет один (бес)» [Лесков І: 210]. Здесь явно обыгрываются парные слова (звуковые повторы) в экспрессивной лексике типа шуры-муры, шалды-балды, шалтай-балтай и т. п., которые сами по себе имеют глоссолалический характер; для такого рода повторов характерно чередование шипящего и билабиального согласного [Якобсон 1921: 55–56]. Ср. считалку: шишел – вышел, вон пошел (вариант: шишел – мишел), где шишел, возможно, – название нечистой силы (ср. шишига).
Другой пример глоссолалического поведения бесов представлен у Сумарокова в «Хоре к гордости», написанном для московского маскарада 1763 г., где бесы поют:
Гордость и тщеславие выдумал бес.
Шерин да берин лис тра фа,
Фар фар фар фар люди ер арцы,
Шинда шиндара,
Транду трандара,
Фар фар фар фар фар фар фар фар ферт.
Сатана за гордость низвержен с небес.
Шерин да берин лис тра фа,
Фар фар фар фар люди ер арцы,
Шинда шиндара,
Транду трандара,
Фар фар фар фар фар фар фар фар ферт
[Сумароков VIII: 342].
В основе этого текста – глоссолалические сочетания, образующиеся в процессе чтения по складам (люди ер арцы… ферт).
Характерно, что такого рода сочетания отражаются в детских считалках, а также в детских условных языках ([Успенский 2013]; см. здесь вообще о связи “Хора к гордости” с фольклорной традицией и прежде всего с детским фольклором]).
Как уже было отмечено, глоссолалии могут восприниматься как элементы иностранной речи (и наоборот).
В древнерусском Азбуковнике читаем: «...злочестивые волхвы и чародеи в различных их мнимых заговорных молитвах пишут иностранною речью бесовская имена, тако же творят и над питием, шепчуще призывают та злая имена и дают ту ядь и питие болным вкушати, овем же с теми злыми имены наюзы на персех дают носити» [Афанасьев 1865–1869, III: 431, примеч. 5]. У поляков «иноязычная речь приписывается <...> водяному и диким лесным людям (говорят по-немецки), водяной может пользоваться также еврейским и египетским языком, демон hiszpanka (олицетворение эпидемии гриппа “испанка”) говорит по-испански, «словно бы по- немецки». По поверьям украинцев восточной Словакии демоны (перелесниця, боґыня, ежибаба) употребляют исковерканные слова, иногда венгерские: “шоє – своє, хвоє – твоє, туря – куря”» [Санникова 1994: 73]. У Данте в «Божественной комедии» Плутос (Pluto), звероподобный демон, который охраняет IV круг ада, кричит: «Pape Satan, pape Satan, aleppe!» («Ад», VII, 1); слова эти не имеют смысла и расшифровке не поддаются – это типичная глоссолалия; характерно вместе с тем, что Бенвенуто Челлини принимает эти слова за текст на французском языке [Челлини 1931: 482].
8. Еще одной особенностью речи чертей или нечистой силы является повторение слов. Так, по цитированному уже свидетельству черти «много раз одно и то же слово повторяют» [Брюсов 1976: 89]. Это особенно наглядно проявляется в ситуации диалога. О лешем известно, например, что он повторяет обращенную к нему человеческую речь, и, соответственно, эхо считается откликом лешего [Иваницкий 1890: 124; Бурцев ІІ: 190]. Ср. рассказ о встрече с лешим, который является в виде знакомого человека; на вопрос путника «Куда пошел, Демид Алексеевич?» леший отвечает такими же вопросами: «Куда Демид пошел? Куда Алексеевич пошел?» [Криничная 1993: 9]. В другом рассказе, встретив лешего, «человек, не узнавший его, спрашивает: “Что, дяденька, ищешь коней?”. А он во весь-то лес: “Ха-ха-ха! Что, дяденька, ищешь коней?” [Криничная 1993: 11; Виноградова 1999: 188]. Или бабы встречают мужиков с косами и говорят им: «“Ой, да и косыньки-то как хороши!” В ответ косцы хохочут: “Хо-хо-хо! Ой, да косыньки... Ой, да косыньки...”» [Криничная 1993: 14; Виноградова 1999: 195]. Отсюда лешего вызывают криком ау [Зеленин 1914–1916: 163, 186] – вероятно, потому, что когда кричат ау, предполагается такой же отклик (ср. поговорку: «Как аукнется, так и откликнется»). Таким же образом ведет себя и банник, который показывается хозяйке в виде черного кота: «Я говорю “Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс” <...>. А он тожo на меня глядит да: “Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс!”» [Лобкова 1995: 39]. Ср. полесский рассказ: «Баба шукала гуся, тее видит гуся и говорит, гладит: “Гусочка, гусочка!”, а эта гусь отвечает: “Гусочка, гусочка!” Спужалась до смерти, кинула. То нечистый» [Санникова 1994: 74]. Выше мы видели, что домовой или леший может явиться в облике человека, который его призывает, т. е. как бы в виде его отражения: это распространяется и на речевое поведение.
Достаточно характерно описание разговора колдуна и чертей, которые требуют у него работы: «“Срубите елок, срубите елок”. А они говорят часто-часто и плохо-непонятно, густым голосом и много раз одно и то же слово повторяют: “Сколько елок, сколько елок, сколько елок?” – “Десять елок, десять елок”. Они скоро-скоро назад придут и спрашивают: “Мы срубили, мы срубили”. “Что нам делать? что нам делать? что нам делать?..”» [Брюсов 1976: 89–90]. Эта особенность речевого поведения нечистой силы нашла отражение у Гоголя в «Заколдованном месте»: «Стал копать (клад) – земля мягкая, заступ так и уходит. Вот что-то звукнуло. Выкидавши землю, увидел он котел. “А, голубчик, вот где ты!” вскрикнул дед, подсовывая под него заступ. “А, голубчик, вот где ты!” запищал птичий нос, клюнувши котел. Посторонился дед и выпустил заступ. “А, голубчик, вот где ты” заблеяла баранья голова с верхушки дерева. «А, голубчик, вот где ты!” заревел медведь, высунувши из-за дерева свое рыло. Дрожь проняла деда. “Да тут страшно слово сказать!” проворчал он про себя. “Тут страшно слово сказать!” пискнул птичий нос. “Страшно слово сказать!” заблеяла баранья голова. “Слово сказать!” ревнул медведь. “Гм…” сказал дед, и сам перепугался. “Гм!” пропищал нос. “Гм!” проблеял баран. “Гум!” заревел медведь» [Гоголь І: 314].
Соответственно, повторение слов свойственно и святочным ряженым, изображающим нечистую силу, которые говорили «по-кудесьему». Ср.: «Требование говорить “по-кудесьему” (то есть необычным образом – скороговоркой или повторами) предъявлялось святочным ряженым, называемым в Вологодской губернии “кудесами”: “И говорят-то [они] не по-нашему: О-о-о-о! Кудясa, кудясa, кудясa! <...> Идём, идём, идём, кудясa! Как живетe, как живетe?”».
Повторение в ситуации диалога характерно и для речи халдеев в «Пещном действе», когда один халдей повторяет слова другого – «подваивает», т. е. откликается как эхо; это отвечает ассоциации халдеев с нечистой силой46. Ср. диалог халдеев: «...Халдѣй кличетъ: товарыщъ. Другій же халдѣй отвѣщаетъ: чево. И первый халдѣй глаголетъ: Это дѣти царевы. А другій халдѣй подваиваетъ: царевы. Первый же глаголетъ: нашего царя повелѣнія не слушаютъ. А другій отвѣщаетъ: не слушаютъ. Первый же халдѣй говоритъ: а златому тѣлу не покланяются. А другій халдѣй глаголетъ: не покланяются. Первый же халдѣй говоритъ: и мы вкинем их в пещь. А другаго отвѣтъ: и начнем их жечь» [Никольский 1885: 200]; ср.: Голубцов 1899: 63–64, 248, примеч. 2; Савинов 1890: 47–49]. Очевидно, что рифма в конце данного диалога («И мы вкинем их в пещь. – И начнем их жечь») воспринимается в этом контексте как вариант повторения, т. е. как вид речевого анти-поведения. Следует иметь в виду при этом, что нечистой силе приписывается способность говорить рифмованной речью [Санникова 1994: 74; Виноградова 1999: 194–195].
Так же могут вести себя и юродивые. Это не должно нас удивлять: для юродивых в принципе характерно анти-поведение, и, следовательно, образ действия юродивого внешне может быть неотличим от магического (колдовского) поведения (не случайно юродивых нередко принимали за колдунов) [Успенский 1985/1996: 468–470]. В Житии Михаила Клопского рассказывается о появлении святого в монастыре (его неожиданно находят в одной из монастырских келий): «И игумен сотвори молитву “Господи Исусе Христе, сыне Божий, помилуй нас грешных!” И он против створил молитву тако же. И игумен 3-жды створил молитву и он противу такоже сотворил 3-жды молитву против игумена Феодосиа. И Феодосий молвит ему: “Кто еси ты, человек ли еси или бес? Что тебе имя?” и он ему отвеща те же речи: “Человек ли еси или бес? Что ти имя?” И Феодосий молвит ему в другие и вь третее те же речи: “Человек ли еси или бес, что ти имя?” И Михайла противу того те же речи в другие и в третие: “Человек ли еси или бес?” <...> И игумен воспроси его Феодосей: “Как еси пришел к нам и откуду еси? Что еси за человек? Что имя твое?” И старец ему отвеща те же речи: “Как еси к нам пришел? Откуду еси? Что твое имя?”» [Дмитриев 1958: 89–90; ср. тот же эпизод по другим редакциям: Там же: 100, 113–114, 145].
Любопытно, что аналогичное явление наблюдается в так называемом «имяреченьи» или «имиряченьи» (феномен, отчасти сходный с кликушеством) у камчадалов, старожильческого русского населения Камчатки; «имяреченье» встречается в основном у женщин и стариков. Следует отметить при этом, что девочки играют в «имяреченье», т. е. этот вид поведения в какой-то мере усваивается, вероятно, искусственным путем [Сокольников 1911: 117].
В этом и в других случаях «имяреченье» удивительно напоминает речевое поведение, усваиваемое нечистой силой.
9. Прямые свидетельства о речевом поведении нечистой силы довольно редки (их приходится собирать по крупицам). Зато очень часты указания, как надо вести себя при встрече с нечистой силой (понятно, почему так: эти указания имеют практический смысл!). Следует полагать, что при контакте с демонами надо вести себя так, как ведут себя сами демоны, т. е. уподобляться им. Как мы уже отмечали, при общении с нечистой силой (будь то колдовство, гадание или разного рода магические обряды) предполагается необходимым перевернутое поведение (анти-поведение). Такая перевернутость в принципе характеризует нечистую силу, и таким образом человек в подобных случаях в своем поведении временно уподобляется демонам. Исходя из этого, мы можем более подробно и полно реконструировать речевое поведение демонов.
Приведем пример. Поляки приписывают разным представителям нечистой силы, например лесным «диким людям», обыкновение все человеческие слова произносить с отрицанием (вставляя отрицательную частицу перед каждым словом) [Зеленин 1934: 228; Зеленин І: 86; Мошинский ІІ/1: 640]. У восточно-славянских демонов это явление, насколько мы знаем, не отмечено; тем не менее есть основания полагать, что оно и здесь должно иметь место.
Так, для того чтобы вступить в контакт с нечистой силой, гадающий снимает с себя крест и пояс и говорит: «Не благослови Господь» [Ефименко І: 196]; в других случаях, приступая к гаданию, говорят: «Не властен Бог, не благослови Христос» [Балов и др. ІІ: 76]. Точно так же молитва («Отче наш») с отрицанием перед каждым словом превращается в заговор, который произносится у гуцулов в ночь на Ивана Купалу, чтобы достать цветок от папортника (магическое средство, способное обогатить его владельца); в дальнейшем при возвращении домой предписывается прочесть ту же молитву в правильном виде для того, чтобы оградиться от нечистой силы.
То же имеет место при произнесении так называемых черных заговоров, злонамеренных, предполагающих обращение к бесам или нечистой силе. Зачин таких заговоров может представлять собой трансформацию соответствующего текста белого заговора (апеллирующего, напротив, к светлому, христианскому началу), где все значимые моменты сопровождаются отрицательной частицей «не». Белый заговор начинается обычно словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа аминь. Встану благословясь, пойду перекрестясь...». Ср. между тем начало черного заговора на отсуху: «Не во имя не Отца, не Сына и не Духа Святаго. Не аминь» [Виноградов ІІ: 73, № 73]; или заговоре на присуху: «Встану, не благословясь, пойду не перекрестясь, – из дверей не дверьми, из ворот не воротами, выйду не в чисто поле, стану не на Запад хребтом. На западной стороне живет сам сатана, злой мучитель Ирод царь» [Виноградов І: 31, № 41; ср. аналогичный заговор: Едемский 1910: 137]. Ср. матерную брань, представляющую собой по своему происхождению языческое заклинание, см. об этом [Успенский 1983–1987/1996], с отрицанием, которое имеет усилительный характер: «Твою душу не мать» [Якобсон 1987: 389]. Показательно также пожелание удачи охотнику: «Ни пуха, ни пера!», на которое принято отвечать «К черту!».
Перевод в план анти-поведения обусловливает отсылку к нечистой силе. Молитве с отрицанием соответствует отрицательный счет, где отрицание прибавляется к каждой цифре; магический отрицательный счет, с одной стороны, предохраняет от сглаза, с другой же стороны, применяется при гадании и произнесении черных заговоров [Зеленин І: 84–8].
Аналогичным образом молитва, прочитанная от конца к началу («взaтпят»), т. е. со словами, произнесенными в обратном порядке, становится заговором, который имеет разные функции, выступая, в частности, как средство от бесов. Так, «Отче наш» читается наоборот, чтобы заговорить ружье [Драгоманов 1876: 39], чтобы навести порчу («сaдить килы») [Соколовы 1915: 525, № 13], чтобы спастись от укуса змеи [Иванов 1898: 469, 304–305; Булашев 1909: 481], даже чтобы потушить свечу [Виноградов І: 71, № 92]. Между тем «воскресная» молитва («Да воскреснет Бог...»), прочитанная с конца становится заговором против бесов [Астахова 1928: 67], или средством для опознания колдунов [Максимов XVIII: 129], или же, наоборот, вредоносным заговором, для того чтобы погубить чью-то пасеку [Виноградов 1904: 77]. Чтение молитвы наоборот может считаться также средством предохранения от града [Чубинский І: 29]. По словам Н.Н. Виноградова, «многие церковные молитвы, прочитанные с конца в известное время и с известными обрядами, обладают, по мнению “ведунов”, страшною силою. Еще большую силу имеют различные части пасхальной обедни и заутрени, прочитанные в 1-й день Пасхи в церкви, причем делающий заклинания должен быть без креста» [Виноградов І: 14]. Не только молитвы, но и заговоры могут читаться в обратном порядке (см., например [Едемский 1910: 136]). В Сербии, отгоняя град, призывают заложного покойника (утопленника), причем иногда переворачивают его имя и фамилию: вместо «О, Станко Петровићу!» кричат «О, Петре Станковићу!» [Толстые 1981: 79].
Перевернутость текста может проявляться как на уровне слов, так и на уровне букв: в последнем случае весь текст предполагает прочтение в обратном порядке. Так, например, обращаясь в письменной форме к лихорадке (которая воспринимается как злой дух), могут писать слова наоборот: «веря, что лихорадка боится рака, пишут на клочке бумажки слова: “рака усен” (то есть несу), отрывают все буквы этих страшных для лихорадки слов и дают по букве больному съесть с хлебом натощак» [Зеленин 1914–1916: 1244]. Можно предположить, что к лихорадке при этом обращаются, так сказать, на ее языке, используя (хотя бы и частично) приписываемые ей формы выражения. Ср. перевернутый текст в заговоре в берестяной грамоте № 674 (ХІІ–ХІІІ вв.): стих из Псалтыри (Пс. 54: 4) «от гласа вражия и от стужения грешнича», который читается справа налево [Зализняк 2004: 462].
Обращение к типологическому материалу позволяет интерпретировать некоторые особенности восточнославянских мифологических представлений (и соответствующего магического поведения). Так, грузины «приписывают водяному духу каджи-али способ речи “наоборот”, то есть произнесение “нет” вместо “да”, “да” вместо “нет” и т. п.; человеку рекомендуется также “наоборот” говорить с водяной, чтобы она поняла человека и последовала за ним» [Зеленин 1934: 228; 1929–1930: І, 87]. Между тем у восточных славян общение с нечистой силой может приводить к замене слов на их антонимы – слова с противоположным смыслом. Именно таким образом, по-видимому, должно рассматриваться доброе (по форме) пожелание, исходящее из уст колдуна, которое должно «сглазить» человека, навести на него порчу. «Сглаз» придает словам в точности обратный смысл. Поэтому колдуны, насылая порчу, могут вести себя двояким образом: они могут высказывать как злое, так и доброе пожелание человеку, которого хотят испортить, причем и то и другое имеет одинаковый смысл [Никитина 1928: 315].
В то же время для обычных людей (не являющихся колдунами) замена слов может выступать, напротив, как средство предотвращения порчи, как оберег, который также предполагает коммуникацию с нечистой силой. Так, в Витебской Белоруссии накануне Ивана Купалы «нужно переиначить коровьи клички при утреннем выгоне скота в поле», причем «полезно давать данной корове кличку быка, свиньи, кошки, собаки и проч.» [Никифоровский 1897: 249, № 1969]; на Рождество «вредных в хозяйственном быту животных <...> нужно называть не собственными их именами, а другими. Так, например, воробьев следует называть “слепцами” <...> крыс “панночками”, ворон и ястребов – “голубями”, волков – “колядниками” и проч. В таком случае эти животные не будут вредить в свое время» [Там же: 228, № 1785]. Равным образом на Рождество здесь запрещается называть своими именами и некоторые неодушевленные предметы: «так, например, головни не следует называть “галузый”, иначе в ячмене и пшенице будет много “галузы”, а нужно называть “кузявкый” (с ударением на “я”): тогда “мылыння не пыдпалиць” ни ячменя, ни пшеницы» [Там же: 228, № 1784]. Ср. еще: «Если в Рождество Христово назвать камни “голябями” и тут же сряду помянуть волков под именем “колядников”, то последние станут грызти камни и от того переводиться» [Там же: 228, № 1785]. Можно предположить в этих примерах разную функциональную направленность: в канун Ивана Купала (нечистое, опасное время) меняют имена скотине, чтобы обмануть демонов, которые иначе могут принести ей вред. Между тем в Рождество (святое время) меняют имена вредоносных существ и предметов и тем самым лишают их силы, заключенной в их имени.
Как бы то ни было, и в том и в другом случае меняются слова. В результате подобных замен возникает как бы особый эзотерический язык, причем функционирование этого языка характеризуется временнoй приуроченностью. Замена определенных слов на слова с противоположным или отличающимся значением приводит к созданию текстов, которые в обычных условиях воспринимаются как семантически неправильные, бессмысленные. Так, например, распространенным заклинанием от нечистой силы является выражение «приди/приходи вчера». С этими словами обращаются к лешему [Ушаков 1896: 159], домовому [Максимов XV: 383], к черту [Зеленин 1914: 438, № 97] и, наконец, к болезни, которая воспринимается как злой дух. При этом рассматриваемое выражение представляет собой типичный пример пустобайки, прибаутки, построенной по принципу травестийного выворачивания наизнанку: этой прибауткой («приходи вчера») пользовались балаганные шуты, чтобы привлечь внимание толпы [Максимов XV: 384]. Тем самым речь идет не о каком-либо специальном заклинании, которое само по себе обладало бы магическими свойствами, но именно о речевом анти-поведении, обусловленном в интересующих нас случаях контактом с потусторонним миром.
Итак, наряду с прямыми свидетельствами о речевом поведении нечистой силы (которые содержатся главным образом в быличках), мы располагаем определенными возможностями для реконструкции соответствующих представлений.
Источник - Б.А .Успенский. Облик черта и его речевое поведение // In Umbra: Демонология как семиотическая система. Альманах # 1. [Отв. ред. и сост. Д.И. Антонов, О.Б. Христофорова]. Москва: [Изд-во Российского гос. гуманитарного ун-та], 2012. — C. 17–65.
Так, согласно одному этнографическому свидетельству, черти говорят «часто-часто и плохо-непонятно густым голосом и много раз одно и то же слово повторяют» [Брюсов 1976: 89]. Когда леший поет песни, невозможно разобрать слов [Померанцева 1975: 36; cр.: Максимов XVIII: 81; Мошинский ІІ/1: 640; Виноградова 1999: 194]. По другим сведениям, «лешие не говорят, а только смеются» [Сахаров VII: 61]. Вместе с тем представителям нечистой силы присущи звуки «гортанные, надсаженные, с металлическим отзвуком»; «когда нечистики оживленно разговаривают, спорят, слушатель улавливает смешение гортанных и пискливых звуков с шипеньем и урчаньем» [Никифоровский 1907: 31; см. еще
в этой связи: Санникова 1994: 74–75]. Считается также, что «нечистик избегает слов с буквою р» [Никифоровский 1907: 31].
Характерно в этом смысле, что письмо лешему (к которому обращаются с требованием возвратить заблудившуюся в лесу скотину) пишется каракулями, а не обычными буквами; это отвечает тому, что леший, как и другие представители нечистой силы, говорят неразборчиво, невнятно; каракули – это своего рода графическая глоссолалия.
Представление о глоссолалической речи чертей нашло отражение и в литературных источниках. Вот, например, как изъясняются бесы в «Воительнице» Лескова: «Шурле-мурле, шире-мире-кравермир, – орет один (бес)» [Лесков І: 210]. Здесь явно обыгрываются парные слова (звуковые повторы) в экспрессивной лексике типа шуры-муры, шалды-балды, шалтай-балтай и т. п., которые сами по себе имеют глоссолалический характер; для такого рода повторов характерно чередование шипящего и билабиального согласного [Якобсон 1921: 55–56]. Ср. считалку: шишел – вышел, вон пошел (вариант: шишел – мишел), где шишел, возможно, – название нечистой силы (ср. шишига).
Другой пример глоссолалического поведения бесов представлен у Сумарокова в «Хоре к гордости», написанном для московского маскарада 1763 г., где бесы поют:
Гордость и тщеславие выдумал бес.
Шерин да берин лис тра фа,
Фар фар фар фар люди ер арцы,
Шинда шиндара,
Транду трандара,
Фар фар фар фар фар фар фар фар ферт.
Сатана за гордость низвержен с небес.
Шерин да берин лис тра фа,
Фар фар фар фар люди ер арцы,
Шинда шиндара,
Транду трандара,
Фар фар фар фар фар фар фар фар ферт
[Сумароков VIII: 342].
В основе этого текста – глоссолалические сочетания, образующиеся в процессе чтения по складам (люди ер арцы… ферт).
Характерно, что такого рода сочетания отражаются в детских считалках, а также в детских условных языках ([Успенский 2013]; см. здесь вообще о связи “Хора к гордости” с фольклорной традицией и прежде всего с детским фольклором]).
Как уже было отмечено, глоссолалии могут восприниматься как элементы иностранной речи (и наоборот).
В древнерусском Азбуковнике читаем: «...злочестивые волхвы и чародеи в различных их мнимых заговорных молитвах пишут иностранною речью бесовская имена, тако же творят и над питием, шепчуще призывают та злая имена и дают ту ядь и питие болным вкушати, овем же с теми злыми имены наюзы на персех дают носити» [Афанасьев 1865–1869, III: 431, примеч. 5]. У поляков «иноязычная речь приписывается <...> водяному и диким лесным людям (говорят по-немецки), водяной может пользоваться также еврейским и египетским языком, демон hiszpanka (олицетворение эпидемии гриппа “испанка”) говорит по-испански, «словно бы по- немецки». По поверьям украинцев восточной Словакии демоны (перелесниця, боґыня, ежибаба) употребляют исковерканные слова, иногда венгерские: “шоє – своє, хвоє – твоє, туря – куря”» [Санникова 1994: 73]. У Данте в «Божественной комедии» Плутос (Pluto), звероподобный демон, который охраняет IV круг ада, кричит: «Pape Satan, pape Satan, aleppe!» («Ад», VII, 1); слова эти не имеют смысла и расшифровке не поддаются – это типичная глоссолалия; характерно вместе с тем, что Бенвенуто Челлини принимает эти слова за текст на французском языке [Челлини 1931: 482].
8. Еще одной особенностью речи чертей или нечистой силы является повторение слов. Так, по цитированному уже свидетельству черти «много раз одно и то же слово повторяют» [Брюсов 1976: 89]. Это особенно наглядно проявляется в ситуации диалога. О лешем известно, например, что он повторяет обращенную к нему человеческую речь, и, соответственно, эхо считается откликом лешего [Иваницкий 1890: 124; Бурцев ІІ: 190]. Ср. рассказ о встрече с лешим, который является в виде знакомого человека; на вопрос путника «Куда пошел, Демид Алексеевич?» леший отвечает такими же вопросами: «Куда Демид пошел? Куда Алексеевич пошел?» [Криничная 1993: 9]. В другом рассказе, встретив лешего, «человек, не узнавший его, спрашивает: “Что, дяденька, ищешь коней?”. А он во весь-то лес: “Ха-ха-ха! Что, дяденька, ищешь коней?” [Криничная 1993: 11; Виноградова 1999: 188]. Или бабы встречают мужиков с косами и говорят им: «“Ой, да и косыньки-то как хороши!” В ответ косцы хохочут: “Хо-хо-хо! Ой, да косыньки... Ой, да косыньки...”» [Криничная 1993: 14; Виноградова 1999: 195]. Отсюда лешего вызывают криком ау [Зеленин 1914–1916: 163, 186] – вероятно, потому, что когда кричат ау, предполагается такой же отклик (ср. поговорку: «Как аукнется, так и откликнется»). Таким же образом ведет себя и банник, который показывается хозяйке в виде черного кота: «Я говорю “Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс” <...>. А он тожo на меня глядит да: “Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс!”» [Лобкова 1995: 39]. Ср. полесский рассказ: «Баба шукала гуся, тее видит гуся и говорит, гладит: “Гусочка, гусочка!”, а эта гусь отвечает: “Гусочка, гусочка!” Спужалась до смерти, кинула. То нечистый» [Санникова 1994: 74]. Выше мы видели, что домовой или леший может явиться в облике человека, который его призывает, т. е. как бы в виде его отражения: это распространяется и на речевое поведение.
Достаточно характерно описание разговора колдуна и чертей, которые требуют у него работы: «“Срубите елок, срубите елок”. А они говорят часто-часто и плохо-непонятно, густым голосом и много раз одно и то же слово повторяют: “Сколько елок, сколько елок, сколько елок?” – “Десять елок, десять елок”. Они скоро-скоро назад придут и спрашивают: “Мы срубили, мы срубили”. “Что нам делать? что нам делать? что нам делать?..”» [Брюсов 1976: 89–90]. Эта особенность речевого поведения нечистой силы нашла отражение у Гоголя в «Заколдованном месте»: «Стал копать (клад) – земля мягкая, заступ так и уходит. Вот что-то звукнуло. Выкидавши землю, увидел он котел. “А, голубчик, вот где ты!” вскрикнул дед, подсовывая под него заступ. “А, голубчик, вот где ты!” запищал птичий нос, клюнувши котел. Посторонился дед и выпустил заступ. “А, голубчик, вот где ты” заблеяла баранья голова с верхушки дерева. «А, голубчик, вот где ты!” заревел медведь, высунувши из-за дерева свое рыло. Дрожь проняла деда. “Да тут страшно слово сказать!” проворчал он про себя. “Тут страшно слово сказать!” пискнул птичий нос. “Страшно слово сказать!” заблеяла баранья голова. “Слово сказать!” ревнул медведь. “Гм…” сказал дед, и сам перепугался. “Гм!” пропищал нос. “Гм!” проблеял баран. “Гум!” заревел медведь» [Гоголь І: 314].
Соответственно, повторение слов свойственно и святочным ряженым, изображающим нечистую силу, которые говорили «по-кудесьему». Ср.: «Требование говорить “по-кудесьему” (то есть необычным образом – скороговоркой или повторами) предъявлялось святочным ряженым, называемым в Вологодской губернии “кудесами”: “И говорят-то [они] не по-нашему: О-о-о-о! Кудясa, кудясa, кудясa! <...> Идём, идём, идём, кудясa! Как живетe, как живетe?”».
Повторение в ситуации диалога характерно и для речи халдеев в «Пещном действе», когда один халдей повторяет слова другого – «подваивает», т. е. откликается как эхо; это отвечает ассоциации халдеев с нечистой силой46. Ср. диалог халдеев: «...Халдѣй кличетъ: товарыщъ. Другій же халдѣй отвѣщаетъ: чево. И первый халдѣй глаголетъ: Это дѣти царевы. А другій халдѣй подваиваетъ: царевы. Первый же глаголетъ: нашего царя повелѣнія не слушаютъ. А другій отвѣщаетъ: не слушаютъ. Первый же халдѣй говоритъ: а златому тѣлу не покланяются. А другій халдѣй глаголетъ: не покланяются. Первый же халдѣй говоритъ: и мы вкинем их в пещь. А другаго отвѣтъ: и начнем их жечь» [Никольский 1885: 200]; ср.: Голубцов 1899: 63–64, 248, примеч. 2; Савинов 1890: 47–49]. Очевидно, что рифма в конце данного диалога («И мы вкинем их в пещь. – И начнем их жечь») воспринимается в этом контексте как вариант повторения, т. е. как вид речевого анти-поведения. Следует иметь в виду при этом, что нечистой силе приписывается способность говорить рифмованной речью [Санникова 1994: 74; Виноградова 1999: 194–195].
Так же могут вести себя и юродивые. Это не должно нас удивлять: для юродивых в принципе характерно анти-поведение, и, следовательно, образ действия юродивого внешне может быть неотличим от магического (колдовского) поведения (не случайно юродивых нередко принимали за колдунов) [Успенский 1985/1996: 468–470]. В Житии Михаила Клопского рассказывается о появлении святого в монастыре (его неожиданно находят в одной из монастырских келий): «И игумен сотвори молитву “Господи Исусе Христе, сыне Божий, помилуй нас грешных!” И он против створил молитву тако же. И игумен 3-жды створил молитву и он противу такоже сотворил 3-жды молитву против игумена Феодосиа. И Феодосий молвит ему: “Кто еси ты, человек ли еси или бес? Что тебе имя?” и он ему отвеща те же речи: “Человек ли еси или бес? Что ти имя?” И Феодосий молвит ему в другие и вь третее те же речи: “Человек ли еси или бес, что ти имя?” И Михайла противу того те же речи в другие и в третие: “Человек ли еси или бес?” <...> И игумен воспроси его Феодосей: “Как еси пришел к нам и откуду еси? Что еси за человек? Что имя твое?” И старец ему отвеща те же речи: “Как еси к нам пришел? Откуду еси? Что твое имя?”» [Дмитриев 1958: 89–90; ср. тот же эпизод по другим редакциям: Там же: 100, 113–114, 145].
Любопытно, что аналогичное явление наблюдается в так называемом «имяреченьи» или «имиряченьи» (феномен, отчасти сходный с кликушеством) у камчадалов, старожильческого русского населения Камчатки; «имяреченье» встречается в основном у женщин и стариков. Следует отметить при этом, что девочки играют в «имяреченье», т. е. этот вид поведения в какой-то мере усваивается, вероятно, искусственным путем [Сокольников 1911: 117].
В этом и в других случаях «имяреченье» удивительно напоминает речевое поведение, усваиваемое нечистой силой.
9. Прямые свидетельства о речевом поведении нечистой силы довольно редки (их приходится собирать по крупицам). Зато очень часты указания, как надо вести себя при встрече с нечистой силой (понятно, почему так: эти указания имеют практический смысл!). Следует полагать, что при контакте с демонами надо вести себя так, как ведут себя сами демоны, т. е. уподобляться им. Как мы уже отмечали, при общении с нечистой силой (будь то колдовство, гадание или разного рода магические обряды) предполагается необходимым перевернутое поведение (анти-поведение). Такая перевернутость в принципе характеризует нечистую силу, и таким образом человек в подобных случаях в своем поведении временно уподобляется демонам. Исходя из этого, мы можем более подробно и полно реконструировать речевое поведение демонов.
Приведем пример. Поляки приписывают разным представителям нечистой силы, например лесным «диким людям», обыкновение все человеческие слова произносить с отрицанием (вставляя отрицательную частицу перед каждым словом) [Зеленин 1934: 228; Зеленин І: 86; Мошинский ІІ/1: 640]. У восточно-славянских демонов это явление, насколько мы знаем, не отмечено; тем не менее есть основания полагать, что оно и здесь должно иметь место.
Так, для того чтобы вступить в контакт с нечистой силой, гадающий снимает с себя крест и пояс и говорит: «Не благослови Господь» [Ефименко І: 196]; в других случаях, приступая к гаданию, говорят: «Не властен Бог, не благослови Христос» [Балов и др. ІІ: 76]. Точно так же молитва («Отче наш») с отрицанием перед каждым словом превращается в заговор, который произносится у гуцулов в ночь на Ивана Купалу, чтобы достать цветок от папортника (магическое средство, способное обогатить его владельца); в дальнейшем при возвращении домой предписывается прочесть ту же молитву в правильном виде для того, чтобы оградиться от нечистой силы.
То же имеет место при произнесении так называемых черных заговоров, злонамеренных, предполагающих обращение к бесам или нечистой силе. Зачин таких заговоров может представлять собой трансформацию соответствующего текста белого заговора (апеллирующего, напротив, к светлому, христианскому началу), где все значимые моменты сопровождаются отрицательной частицей «не». Белый заговор начинается обычно словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа аминь. Встану благословясь, пойду перекрестясь...». Ср. между тем начало черного заговора на отсуху: «Не во имя не Отца, не Сына и не Духа Святаго. Не аминь» [Виноградов ІІ: 73, № 73]; или заговоре на присуху: «Встану, не благословясь, пойду не перекрестясь, – из дверей не дверьми, из ворот не воротами, выйду не в чисто поле, стану не на Запад хребтом. На западной стороне живет сам сатана, злой мучитель Ирод царь» [Виноградов І: 31, № 41; ср. аналогичный заговор: Едемский 1910: 137]. Ср. матерную брань, представляющую собой по своему происхождению языческое заклинание, см. об этом [Успенский 1983–1987/1996], с отрицанием, которое имеет усилительный характер: «Твою душу не мать» [Якобсон 1987: 389]. Показательно также пожелание удачи охотнику: «Ни пуха, ни пера!», на которое принято отвечать «К черту!».
Перевод в план анти-поведения обусловливает отсылку к нечистой силе. Молитве с отрицанием соответствует отрицательный счет, где отрицание прибавляется к каждой цифре; магический отрицательный счет, с одной стороны, предохраняет от сглаза, с другой же стороны, применяется при гадании и произнесении черных заговоров [Зеленин І: 84–8].
Аналогичным образом молитва, прочитанная от конца к началу («взaтпят»), т. е. со словами, произнесенными в обратном порядке, становится заговором, который имеет разные функции, выступая, в частности, как средство от бесов. Так, «Отче наш» читается наоборот, чтобы заговорить ружье [Драгоманов 1876: 39], чтобы навести порчу («сaдить килы») [Соколовы 1915: 525, № 13], чтобы спастись от укуса змеи [Иванов 1898: 469, 304–305; Булашев 1909: 481], даже чтобы потушить свечу [Виноградов І: 71, № 92]. Между тем «воскресная» молитва («Да воскреснет Бог...»), прочитанная с конца становится заговором против бесов [Астахова 1928: 67], или средством для опознания колдунов [Максимов XVIII: 129], или же, наоборот, вредоносным заговором, для того чтобы погубить чью-то пасеку [Виноградов 1904: 77]. Чтение молитвы наоборот может считаться также средством предохранения от града [Чубинский І: 29]. По словам Н.Н. Виноградова, «многие церковные молитвы, прочитанные с конца в известное время и с известными обрядами, обладают, по мнению “ведунов”, страшною силою. Еще большую силу имеют различные части пасхальной обедни и заутрени, прочитанные в 1-й день Пасхи в церкви, причем делающий заклинания должен быть без креста» [Виноградов І: 14]. Не только молитвы, но и заговоры могут читаться в обратном порядке (см., например [Едемский 1910: 136]). В Сербии, отгоняя град, призывают заложного покойника (утопленника), причем иногда переворачивают его имя и фамилию: вместо «О, Станко Петровићу!» кричат «О, Петре Станковићу!» [Толстые 1981: 79].
Перевернутость текста может проявляться как на уровне слов, так и на уровне букв: в последнем случае весь текст предполагает прочтение в обратном порядке. Так, например, обращаясь в письменной форме к лихорадке (которая воспринимается как злой дух), могут писать слова наоборот: «веря, что лихорадка боится рака, пишут на клочке бумажки слова: “рака усен” (то есть несу), отрывают все буквы этих страшных для лихорадки слов и дают по букве больному съесть с хлебом натощак» [Зеленин 1914–1916: 1244]. Можно предположить, что к лихорадке при этом обращаются, так сказать, на ее языке, используя (хотя бы и частично) приписываемые ей формы выражения. Ср. перевернутый текст в заговоре в берестяной грамоте № 674 (ХІІ–ХІІІ вв.): стих из Псалтыри (Пс. 54: 4) «от гласа вражия и от стужения грешнича», который читается справа налево [Зализняк 2004: 462].
Обращение к типологическому материалу позволяет интерпретировать некоторые особенности восточнославянских мифологических представлений (и соответствующего магического поведения). Так, грузины «приписывают водяному духу каджи-али способ речи “наоборот”, то есть произнесение “нет” вместо “да”, “да” вместо “нет” и т. п.; человеку рекомендуется также “наоборот” говорить с водяной, чтобы она поняла человека и последовала за ним» [Зеленин 1934: 228; 1929–1930: І, 87]. Между тем у восточных славян общение с нечистой силой может приводить к замене слов на их антонимы – слова с противоположным смыслом. Именно таким образом, по-видимому, должно рассматриваться доброе (по форме) пожелание, исходящее из уст колдуна, которое должно «сглазить» человека, навести на него порчу. «Сглаз» придает словам в точности обратный смысл. Поэтому колдуны, насылая порчу, могут вести себя двояким образом: они могут высказывать как злое, так и доброе пожелание человеку, которого хотят испортить, причем и то и другое имеет одинаковый смысл [Никитина 1928: 315].
В то же время для обычных людей (не являющихся колдунами) замена слов может выступать, напротив, как средство предотвращения порчи, как оберег, который также предполагает коммуникацию с нечистой силой. Так, в Витебской Белоруссии накануне Ивана Купалы «нужно переиначить коровьи клички при утреннем выгоне скота в поле», причем «полезно давать данной корове кличку быка, свиньи, кошки, собаки и проч.» [Никифоровский 1897: 249, № 1969]; на Рождество «вредных в хозяйственном быту животных <...> нужно называть не собственными их именами, а другими. Так, например, воробьев следует называть “слепцами” <...> крыс “панночками”, ворон и ястребов – “голубями”, волков – “колядниками” и проч. В таком случае эти животные не будут вредить в свое время» [Там же: 228, № 1785]. Равным образом на Рождество здесь запрещается называть своими именами и некоторые неодушевленные предметы: «так, например, головни не следует называть “галузый”, иначе в ячмене и пшенице будет много “галузы”, а нужно называть “кузявкый” (с ударением на “я”): тогда “мылыння не пыдпалиць” ни ячменя, ни пшеницы» [Там же: 228, № 1784]. Ср. еще: «Если в Рождество Христово назвать камни “голябями” и тут же сряду помянуть волков под именем “колядников”, то последние станут грызти камни и от того переводиться» [Там же: 228, № 1785]. Можно предположить в этих примерах разную функциональную направленность: в канун Ивана Купала (нечистое, опасное время) меняют имена скотине, чтобы обмануть демонов, которые иначе могут принести ей вред. Между тем в Рождество (святое время) меняют имена вредоносных существ и предметов и тем самым лишают их силы, заключенной в их имени.
Как бы то ни было, и в том и в другом случае меняются слова. В результате подобных замен возникает как бы особый эзотерический язык, причем функционирование этого языка характеризуется временнoй приуроченностью. Замена определенных слов на слова с противоположным или отличающимся значением приводит к созданию текстов, которые в обычных условиях воспринимаются как семантически неправильные, бессмысленные. Так, например, распространенным заклинанием от нечистой силы является выражение «приди/приходи вчера». С этими словами обращаются к лешему [Ушаков 1896: 159], домовому [Максимов XV: 383], к черту [Зеленин 1914: 438, № 97] и, наконец, к болезни, которая воспринимается как злой дух. При этом рассматриваемое выражение представляет собой типичный пример пустобайки, прибаутки, построенной по принципу травестийного выворачивания наизнанку: этой прибауткой («приходи вчера») пользовались балаганные шуты, чтобы привлечь внимание толпы [Максимов XV: 384]. Тем самым речь идет не о каком-либо специальном заклинании, которое само по себе обладало бы магическими свойствами, но именно о речевом анти-поведении, обусловленном в интересующих нас случаях контактом с потусторонним миром.
Итак, наряду с прямыми свидетельствами о речевом поведении нечистой силы (которые содержатся главным образом в быличках), мы располагаем определенными возможностями для реконструкции соответствующих представлений.
Источник - Б.А .Успенский. Облик черта и его речевое поведение // In Umbra: Демонология как семиотическая система. Альманах # 1. [Отв. ред. и сост. Д.И. Антонов, О.Б. Христофорова]. Москва: [Изд-во Российского гос. гуманитарного ун-та], 2012. — C. 17–65.



![[Изображение: gifka2.gif]](https://imageup.ru/img147/3952740/gifka2.gif)